«Можно прикрыться большой темой. Но большая тема не спасет от непрофессионализма»
интервью с драматургом
РАГИМ МУСАЕВ
Спектакль по пьесе Рагима Мусаева «Свадебное платье для аксолотля» идет в тульском академическом театре драмы имени Горького уже второй сезон. Постановку на тему СВО дважды показывали в Москве, она побывала на гастролях в Челябинске и Ростове-на-Дону. Пьесу также поставили в драматическом театре Восточного военного округа в Уссурийске.
«Аксолотль» — пример того, как театр без проволочек и колебаний включился в отображение и обсуждение жизни изменившейся страны и получил однозначную поддержку зрителей.
После просмотра спектакля на фестивале военной культуры «Аванпост» стало ясно: с автором пьесы обязательно нужно поговорить.
Начнем с недавнего прошлого. Какие мысли у Вас вызывало состояние российской драматургии до 2022 года?
На мой взгляд, с середины 90-х годов у нас начался период глобального эксперимента. Необходимость перемен тогда действительно назрела. Однако многое решалось странными методами. В лозунге новой драмы был поиск новизны. C одной стороны, это прекрасно, а с другой, в этом поиске мы забыли про профессию. Стали думать исключительно о том, чем можем ошарашить зрителя. Не удивить, а именно ошарашить.
Конец 90-х, нулевые и десятые — это период, когда профессионализм в драматургии стали подменять пиаром. Стало гораздо меньше качественной критики. А для драматургии, на мой взгляд, профессиональная критика очень важна. Критикам же хотелось кушать, и они периодически стали писать то, за что платят. Не хочу никого осуждать, но это вышло боком для развития театра в целом.
Эксперимент — это интересно. Но объявлять любой мало-мальски удачный эксперимент будущим российской драматургии было неосмотрительно.
Появлялись какие-то имена, их сразу же объявляли гениями. Они делали громкие на какой-то момент спектакли. Однако проходил год, и никто уже не помнил ни тех спектаклей, ни тех гениев.
Большинство новых спектаклей шло по принципу, кто кого громче стукнет по голове дубинкой и в итоге вынесет зрителю мозги. Но нельзя все время ошарашивать. Тем более, что после того, как сняли штаны и надели их на голову, дальше уже было не так много вариантов. Экскременты, кровь, порнография — все это было, и сама жизнь показала, что это тупиковый путь.
Большинство новых спектаклей шло по принципу, кто кого громче стукнет по голове дубинкой и в итоге вынесет зрителю мозги. Но нельзя все время ошарашивать. Тем более, что после того, как сняли штаны и надели их на голову, дальше уже было не так много вариантов. Экскременты, кровь, порнография — все это было, и сама жизнь показала, что это тупиковый путь.
И как Вы ощущали свое место в том драматургическом процессе?
А я его не ощущал. Я все время смотрел вокруг и понимал, что я какой-то не такой, не отсюда. То, что я делал, оказалось востребовано театрами, но какие-то конкурсы, лаборатории — там я, как говорится, пролетал. Никто меня не привечал.
Я шел другим путем. И в том, что касается тем Великой Отечественной, и просто военной темы. Поэтому 2022-й год стал моментом, когда я понял: то, что я делаю, востребовано.
А я его не ощущал. Я все время смотрел вокруг и понимал, что я какой-то не такой, не отсюда. То, что я делал, оказалось востребовано театрами, но какие-то конкурсы, лаборатории — там я, как говорится, пролетал. Никто меня не привечал.
Я шел другим путем. И в том, что касается тем Великой Отечественной, и просто военной темы. Поэтому 2022-й год стал моментом, когда я понял: то, что я делаю, востребовано.
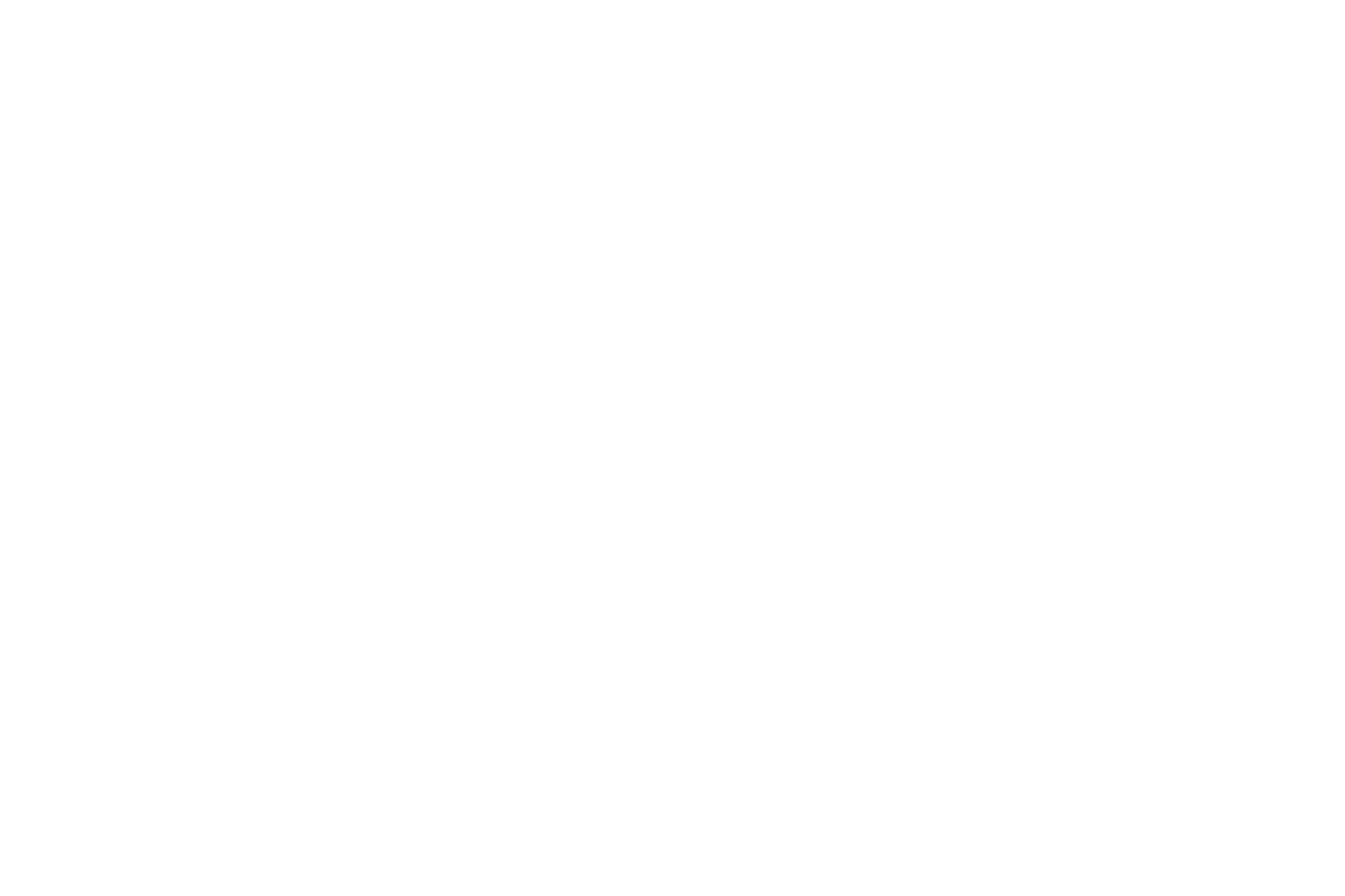
Набережная Тульского Кремля.
О МУДРОЙ ПРОПАГАНДЕ
Понимаете, когда нам говорили, что пропаганда не нужна, в этом была большая доля лукавства. Люди недоговаривали. Они отменили советскую пропаганду, но заменили ее на другую, которую мы не сразу раскусили. А когда спохватились, уже сформировалось целое поколение.
Есть история про то, что правитель, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. Так и здесь. Если у страны нет своей пропаганды, придет чужая.
Национальная пропаганда необходима. Ключевой момент в том, что пропаганда должна быть мудрая. Она не должна долбить по башке кулаком с криками: «Любите Родину, мать вашу!»
Любовь к Родине — это не крики, это отношение, это дела. Для того, чтобы любить свою землю, надо про эту землю прежде всего что-то знать. Надо понимать, что ты здесь не случайно возникший человек. До тебя здесь были поколения, и они много чего совершили. И то, что они делали, это невероятно интересно. И тебе, как наследнику этих поколений, есть чем гордиться. Вот тогда и начинается любовь к Родине на мой взгляд.
Как-то с этим я и пришел к 2022-му году.
Любовь к Родине — это не крики, это отношение, это дела. Для того, чтобы любить свою землю, надо про эту землю прежде всего что-то знать. Надо понимать, что ты здесь не случайно возникший человек. До тебя здесь были поколения, и они много чего совершили. И то, что они делали, это невероятно интересно. И тебе, как наследнику этих поколений, есть чем гордиться. Вот тогда и начинается любовь к Родине на мой взгляд.
Как-то с этим я и пришел к 2022-му году.
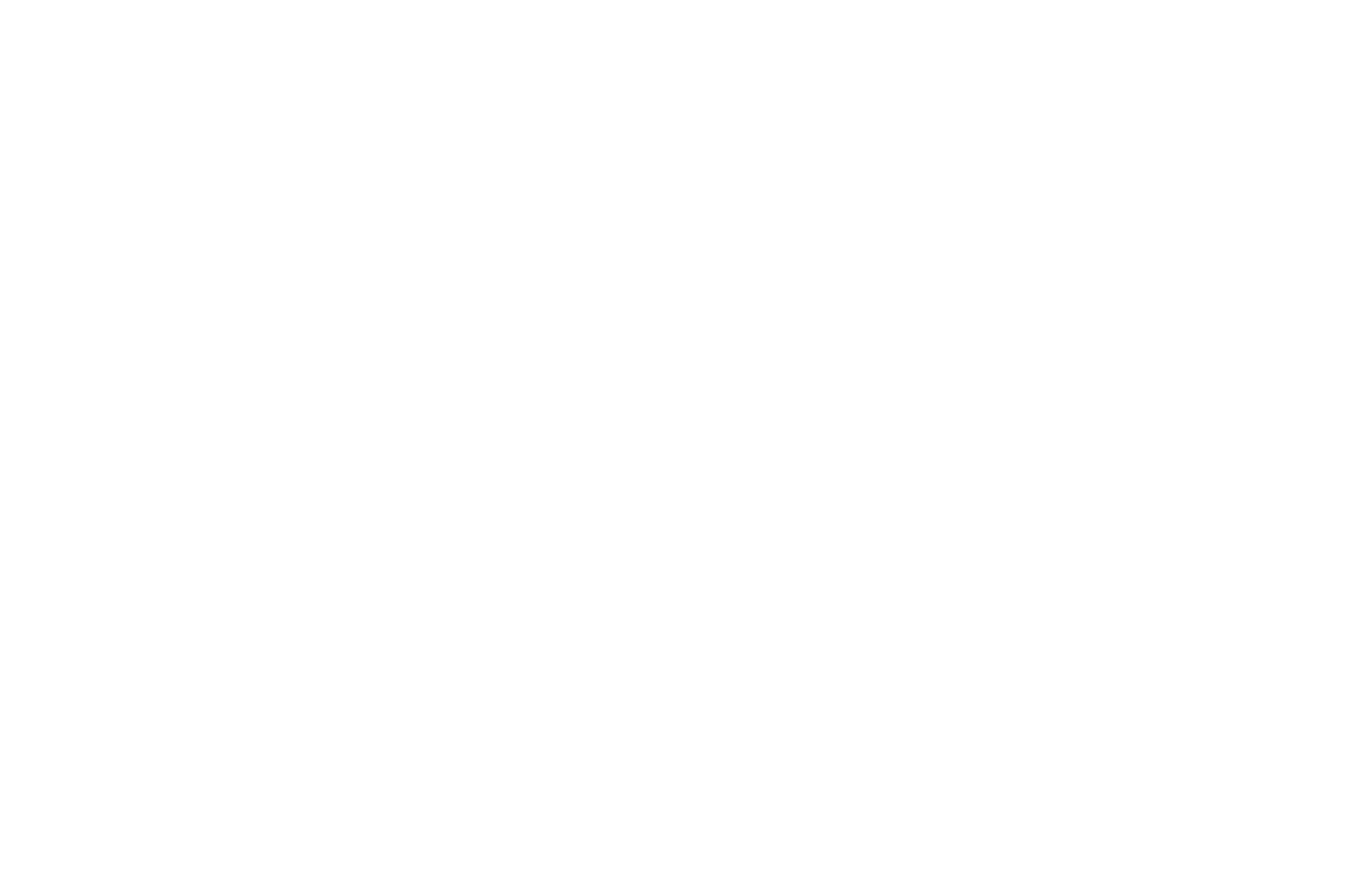
С коллегами по Тульскому академическому театру драмы имени Горького.
Что-то, написанное для театра в эпоху 90-х и нулевых, на Ваш взгляд, все-таки прошло проверку временем?
Безусловно, были и есть профессиональные авторы, и можно вспомнить фамилии, которые присутствовали на всех афишах страны. Тот же Николай Коляда, Валентин Красногоров, Юрий Поляков. Можно по-разному к ним относиться, у каждого из них свои достоинства и недостатки. Но это профессиональные состоявшиеся драматурги.
На мой взгляд, очень точно 90-е отразила пьеса «Пока она умирала» Надежды Птушкиной. Это была история про бывших, не вписавшихся в новую реальность, и, одновременно, это была история про надежду, которая была очень нужна людям. Характерная пьеса своего времени, которая успешно шла в театрах.
Безусловно, были и есть профессиональные авторы, и можно вспомнить фамилии, которые присутствовали на всех афишах страны. Тот же Николай Коляда, Валентин Красногоров, Юрий Поляков. Можно по-разному к ним относиться, у каждого из них свои достоинства и недостатки. Но это профессиональные состоявшиеся драматурги.
На мой взгляд, очень точно 90-е отразила пьеса «Пока она умирала» Надежды Птушкиной. Это была история про бывших, не вписавшихся в новую реальность, и, одновременно, это была история про надежду, которая была очень нужна людям. Характерная пьеса своего времени, которая успешно шла в театрах.
О КРИЗИСЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДРАМАТУРГИИ
Серьезная проблема в том, что в эти условные 30 лет после развала Советского Союза в стране было в принципе утрачено профессиональное образование для драматургов.
Литинститут имени Горького в Москве уже много лет не набирает курс драматургии: нет мастера. Есть специализация «литературный работник» в Екатеринбургском театральном институте у того же Коляды, но там свои нюансы. Далеко не у всех его учеников получается выбиться из-под опеки и обаяния мастера и стать самостоятельным автором. Уральскую школу отличает характерный и не меняющийся почерк. А драматургу важно иметь свой голос.
Проблема высшего образования в драматургии остается очень серьезной. Лишь последние несколько лет начали открываться какие-то факультеты, курсы. Я специально изучал эту тему, интересовался, кто там преподает. Читаешь резюме: человек закончил то-то, учился у того-то, принимал участие в лаборатории такой-то, питчинге таком-то, читки у него были там-то. И лишь самом конце: в театре таком-то была поставлена пьеса.
Ребята, можете выкинуть первые три листа. Важен только последний пункт: «Пьесы поставлены в...» Только это говорит о том, что драматург реально что-то умеет.
Можно быть прекрасным теоретиком, уметь интересно рассказывать про то, как надо писать. Но идти учиться имеет смысл только к тому, у кого действительно есть написанные и поставленные пьесы.
Послушайте интервью Юрия Полякова: как он говорит? Без воды, без лишних терминов. Просто, четко, по делу. Потому что он практик. А красивые театроведческие рассказы про то, как большие корабли бороздят просторы большого театра, в профессии не очень пригодятся, к сожалению.
О ЧИТКАХ КАК ИЛЛЮЗИИ ВОСТРЕБОВАННОСТИ
Были интересные начинания. Те же читки позиционировались как способ молодым авторам заявить о себе, обратить внимание на новые тексты. Однако фактически читки сформировали параллельную театральную реальность, не имеющую отношения к репертуарному театру. Большая часть тех текстов так и не стала достоянием сцены.
Поэтому, когда в 2022-м году стало понятно, что нужен новый подход к современной пьесе, новые герои, оказалось, что писать это практически некому. Современных и относительно молодых авторов, способных профессионально отработать новые темы, так и не выросло, несмотря на курсы, конкурсы и читки.
Драматурги оказались не готовы к военной и патриотической теме?
После того, как 30 лет от людей требовали чернухи, каких-то вывернутых тем, когда нивелировалась классическая школа драматургии, трудно ожидать мгновенной готовности.
Но не мы первые столкнулись со сложностями в отражении современности. Не надо заново изобретать драматургию, которой 2000 лет. Надо просто работать по школе: искать смыслы, образы, систему персонажей, продумывать композицию.
Все уже давно придумано: как работать с первоисточниками, документами, мемуарами… Другое дело, что после эпохи новизны авторы этого просто не умеют: берут целые куски тех же мемуаров и забывают, что это текст для чтения, а не для сцены.
После того, как 30 лет от людей требовали чернухи, каких-то вывернутых тем, когда нивелировалась классическая школа драматургии, трудно ожидать мгновенной готовности.
Но не мы первые столкнулись со сложностями в отражении современности. Не надо заново изобретать драматургию, которой 2000 лет. Надо просто работать по школе: искать смыслы, образы, систему персонажей, продумывать композицию.
Все уже давно придумано: как работать с первоисточниками, документами, мемуарами… Другое дело, что после эпохи новизны авторы этого просто не умеют: берут целые куски тех же мемуаров и забывают, что это текст для чтения, а не для сцены.
Если мы с вами вспомним Великую Отечественную, то в 1942-м году уже шел «Фронт» по пьесе Александра Корнейчука. То есть на второй год войны появился вполне себе классический спектакль, который не был однодневкой, и который ставился театрами несколько десятилетий.
Собственно говоря, изучая творчество Корнейчука как драматурга, «Фронт» обязательно упоминают как одну из вех.
Поэтому позиция многих театров, что на тему СВО ничего нельзя написать, потому что нельзя написать, и поэтому мы ничего ставить не будем — это от лукавого.
Да, поначалу и во время Великой Отечественной шли какие-то сборные концерты, выступления агитбригад, но потом театр собрался с силами.
Сложно отражать ситуацию, в которой находишься. Однако ничего не делать — это не выход.
Поэтому позиция многих театров, что на тему СВО ничего нельзя написать, потому что нельзя написать, и поэтому мы ничего ставить не будем — это от лукавого.
Да, поначалу и во время Великой Отечественной шли какие-то сборные концерты, выступления агитбригад, но потом театр собрался с силами.
Сложно отражать ситуацию, в которой находишься. Однако ничего не делать — это не выход.
О «CВАДЕБНОМ ПЛАТЬЕ ДЛЯ АКСОЛОТЛЯ»
Как появилась идея Вашего спектакля об СВО?
Сначала это была инициатива Сергея Михайловича Борисова, на тот момент директора тульского театра драмы, а теперь его президента. Олег Станиславович Михайлов, новый генеральный директор, за идею ухватился и очень активно ее поддержал.
Сначала это была инициатива Сергея Михайловича Борисова, на тот момент директора тульского театра драмы, а теперь его президента. Олег Станиславович Михайлов, новый генеральный директор, за идею ухватился и очень активно ее поддержал.
«Свадебное платье для аксолотля» — спектакль в чем-то неожиданный. Мне нравится, что люди после просмотра говорят одну и ту же фразу: «Мы не думали, что про СВО можно рассказать вот так. Мы думали, сейчас будут какие-то бои, лозунги…»
При этом спектакль принимают те, кто непосредственно вернулся с передовой. Когда из зала выходит такой уже не юный седой дядька в форме, вся грудь в медалях, и плачет, вытирая слезы… Значит, что-то в этом спектакле получилось.
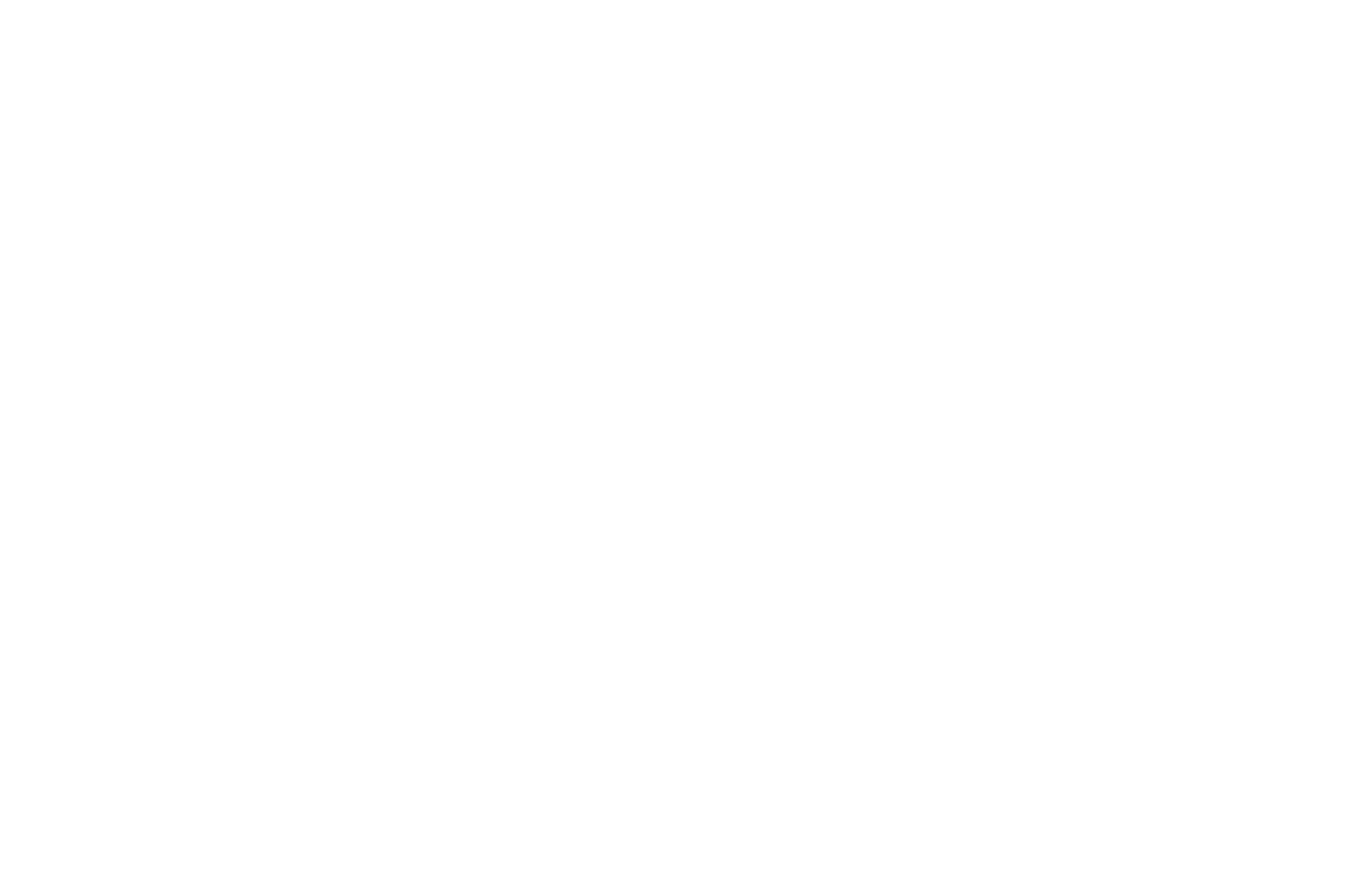
Сцена из спектакля «Свадебное платье для аксолотля».
«Жизнь никого ждать не будет»
Аксолотль — это образ. Этакое милое модное существо, личинка ящерицы амбистомы, которая может на всю жизнь остаться личинкой и никогда не вырасти. Аксолотль живет в тепличных условиях, и даже повышение температуры воды на один градус может привести к его гибели.
Это такой общий образ людей, которые сидят в своем аквариуме и боятся повышения температуры воды на один градус, делают вид, что снаружи ничего не происходит.
Это такой общий образ людей, которые сидят в своем аквариуме и боятся повышения температуры воды на один градус, делают вид, что снаружи ничего не происходит.

Сцена из спектакля «Свадебное платье для аксолотля».
Были ли у героев прототипы?
Если честно, то я не очень понимаю тренд рассказывать на сцене прямо реальную-реальную историю прямо конкретного-конкретного человека. Зачем? Театр — это всегда обобщение. Литературные произведения — это срез общества. Все мои образы — это обобщение.
Если честно, то я не очень понимаю тренд рассказывать на сцене прямо реальную-реальную историю прямо конкретного-конкретного человека. Зачем? Театр — это всегда обобщение. Литературные произведения — это срез общества. Все мои образы — это обобщение.
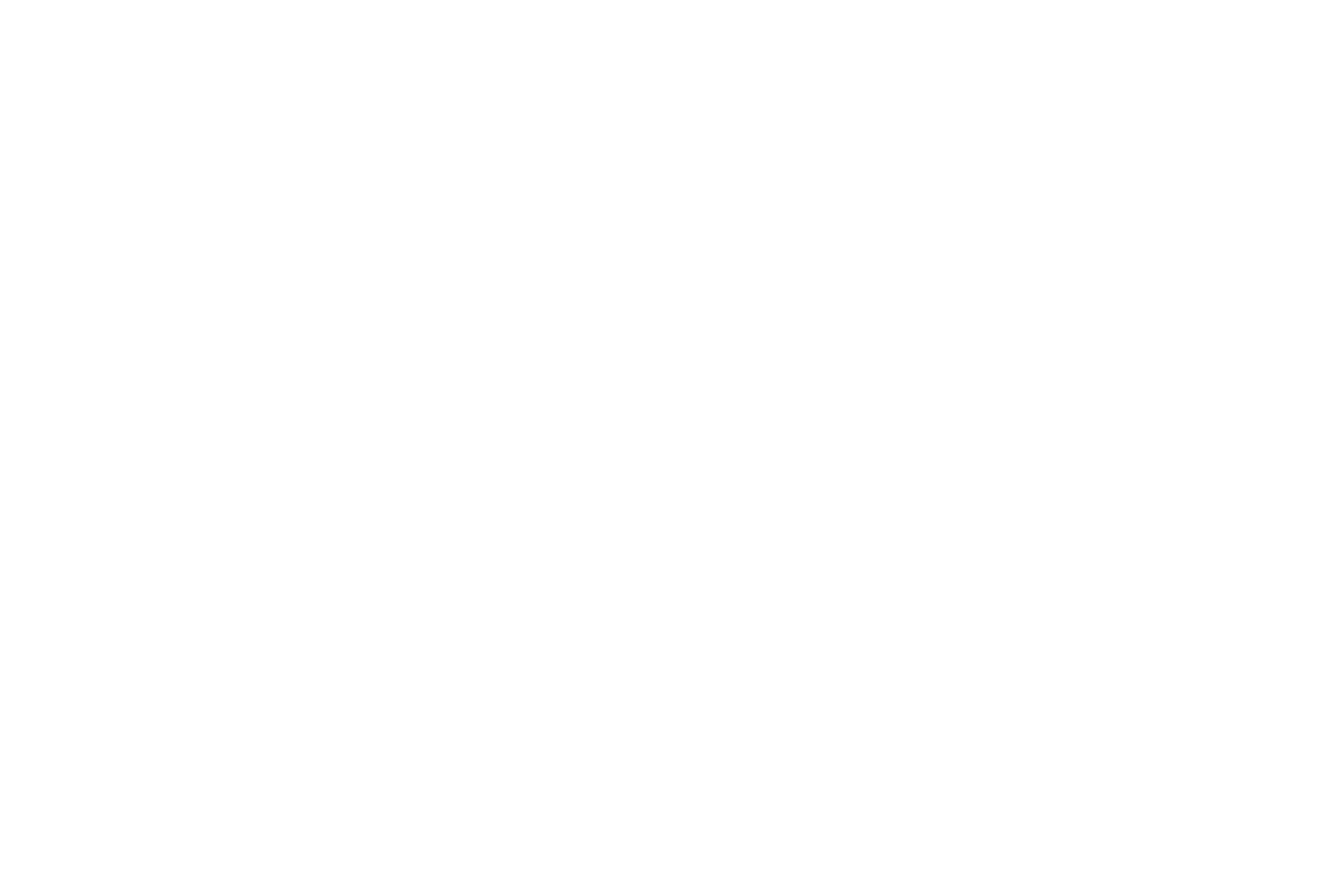
Сцена из спектакля «Свадебное платье для аксолотля».
На мой взгляд, в истории «Аксолотля» особенно выделяются роли Консультанта и Бабы Иры. Как Вы оцениваете эти актерские работы?
Тут два образа и два разных ответа. Изначально Консультант — это абсолютно технический персонаж, который был призван прикрывать дырки между сценами. Нужен был талант драматурга и актера, чтобы из служебного образа сделать интересную роль. Дмитрий Чепушканов, замечательный артист тульской драмы, один из ее ведущих актеров, прекрасно с этим справился. Зрители действительно отмечают его героя.
Тут два образа и два разных ответа. Изначально Консультант — это абсолютно технический персонаж, который был призван прикрывать дырки между сценами. Нужен был талант драматурга и актера, чтобы из служебного образа сделать интересную роль. Дмитрий Чепушканов, замечательный артист тульской драмы, один из ее ведущих актеров, прекрасно с этим справился. Зрители действительно отмечают его героя.
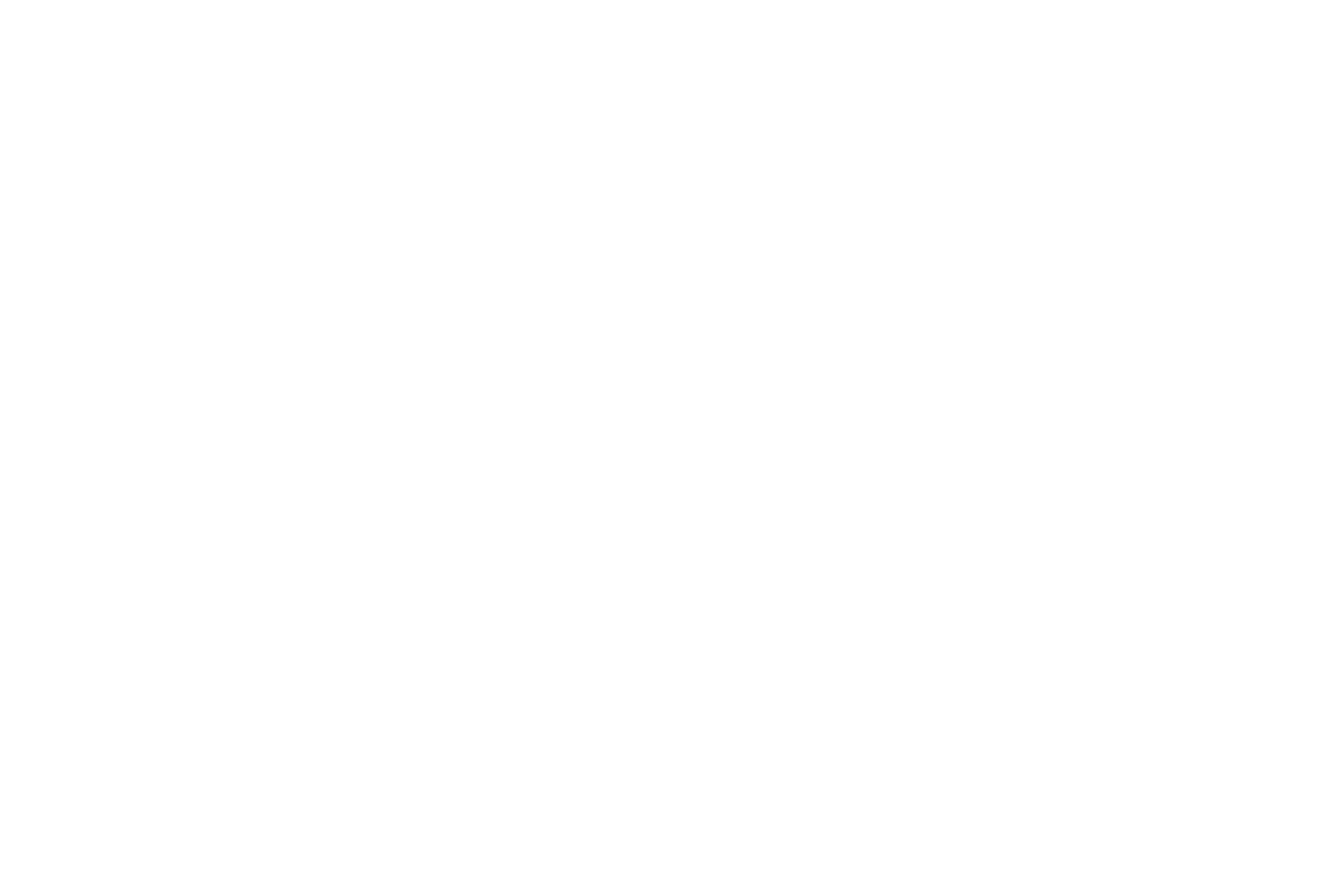
Сцена из спектакля «Свадебное платье для аксолотля».
Мне показалось, в образе Консультанта заложена пародия на Дмитрия Нагиева. Все эти ужимки, ухватки…
Консультант — это воплощение подсознания главного героя, Максима. А он и был воспитан на всех этих телепередачах. Это хорошо, что Нагиев считывается. Подобные параллели с реальностью работают на спектакль, на узнаваемость ситуации и характеров.
Консультант — это воплощение подсознания главного героя, Максима. А он и был воспитан на всех этих телепередачах. Это хорошо, что Нагиев считывается. Подобные параллели с реальностью работают на спектакль, на узнаваемость ситуации и характеров.
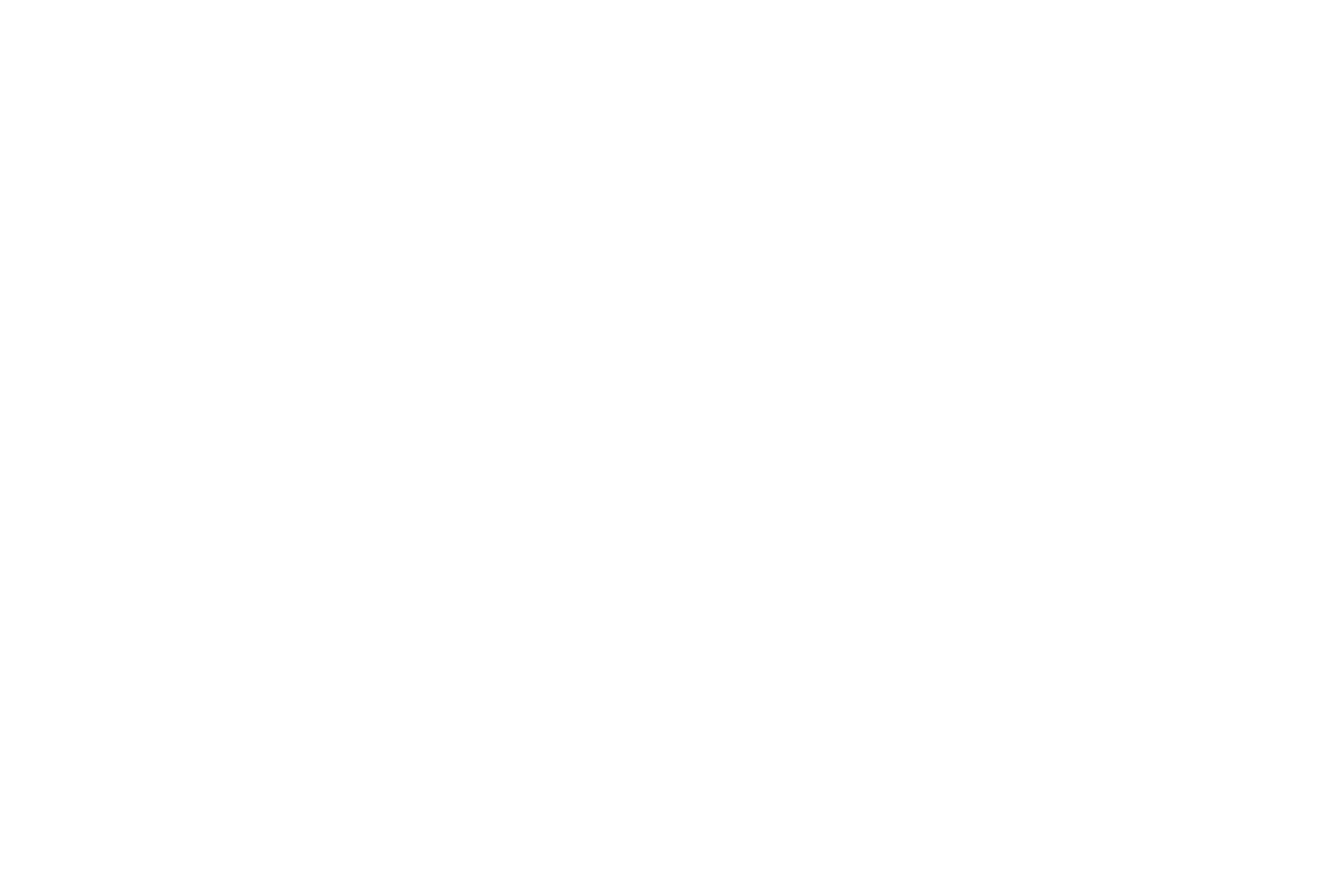
Сцена из спектакля «Свадебное платье для аксолотля».
Что касается бабушки, то это роль Ирины Вячеславовны Бавтриковой, нашей замечательной тульской актрисы. Отчасти этот персонаж был подсмотрен мной в жизни, отчасти придуман. Изначально роль бабушки была меньше, но в процессе постановки она увеличилась, дописывал ее практически на репетициях. Думаю, это пошло спектаклю в плюс.

Сцена из спектакля «Свадебное платье для аксолотля».
Любопытно, что я действительно наблюдал за работой тульской женской команды, которая занимается изготовлением для фронта всевозможных сублимированных продуктов, плетет маскировочные сети. И после того, как вышла премьера, узнал, что у них действительно есть похожая бабуля, которая также всех воодушевляет, контролирует, направляет… Всегда первая приходит на сбор и, несмотря на достойный возраст, занимает очень активную жизненную позицию.
Вообще, любой спектакль — это коллективный труд, который только начинается с работы драматурга. Над «Аксолотлем» работала прекрасная команда тульского академического театра драмы: художник Ирина Александровна Блохина, режиссер Анна Юрьевна Терешина.
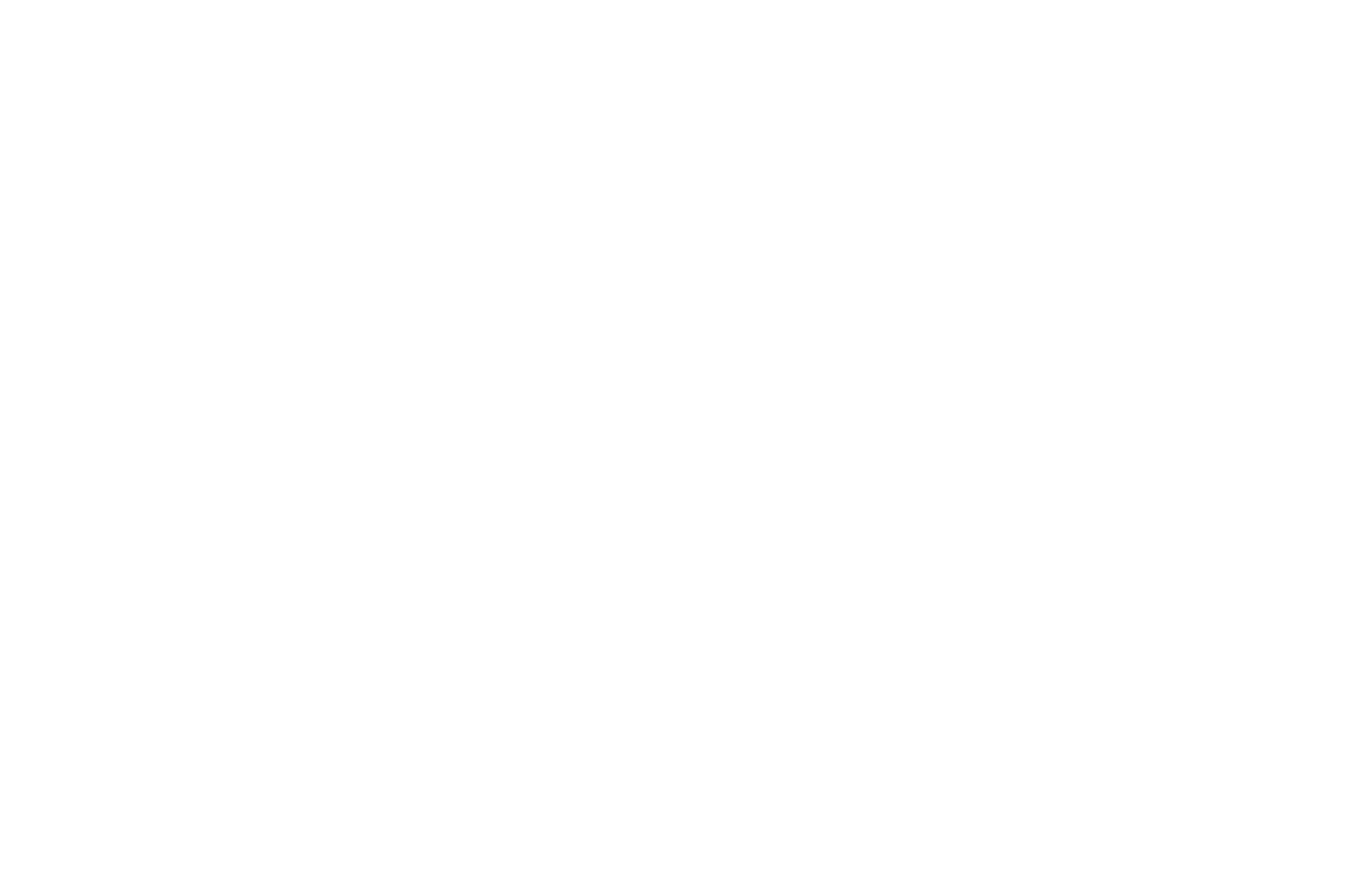
Драматург Рагим Мусаев и режиссер Анна Терешина.
С Анной Терешиной у нас сложился достаточно известный в Туле тандем. На нас ходит публика, мы это знаем, нам это очень приятно, и поэтому стараемся не обманывать ожидания зрителей.
О ТУЛЬСКОМ ДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ
С чего началось Ваше сотрудничество с Тульским театром драмы?
Первой пьесой, которую я для них написал, был «Визит императрицы» на основе реальной истории о приезде Екатерины II в Тулу.
Первой пьесой, которую я для них написал, был «Визит императрицы» на основе реальной истории о приезде Екатерины II в Тулу.
Через какое-то время Сергей Михайлович Борисов предложил мне сделать цикл спектаклей, где отразились бы моменты истории, которыми Тула действительно богата. Так появился проект «Жизнь замечательных туляков».
Что интересно, премьера первого спектакля состоялась 22 февраля 2022-го года. Совпадение, так как работу мы начали еще в 2021-м.
Что интересно, премьера первого спектакля состоялась 22 февраля 2022-го года. Совпадение, так как работу мы начали еще в 2021-м.
О театральном цикле «Жизнь замечательных туляков»
Первый спектакль был о Валерии Алексеевиче Легасове, человеке, ликвидировавшим последствия Чернобыльской катастрофы. Мало кто знает, что он уроженец Тулы.
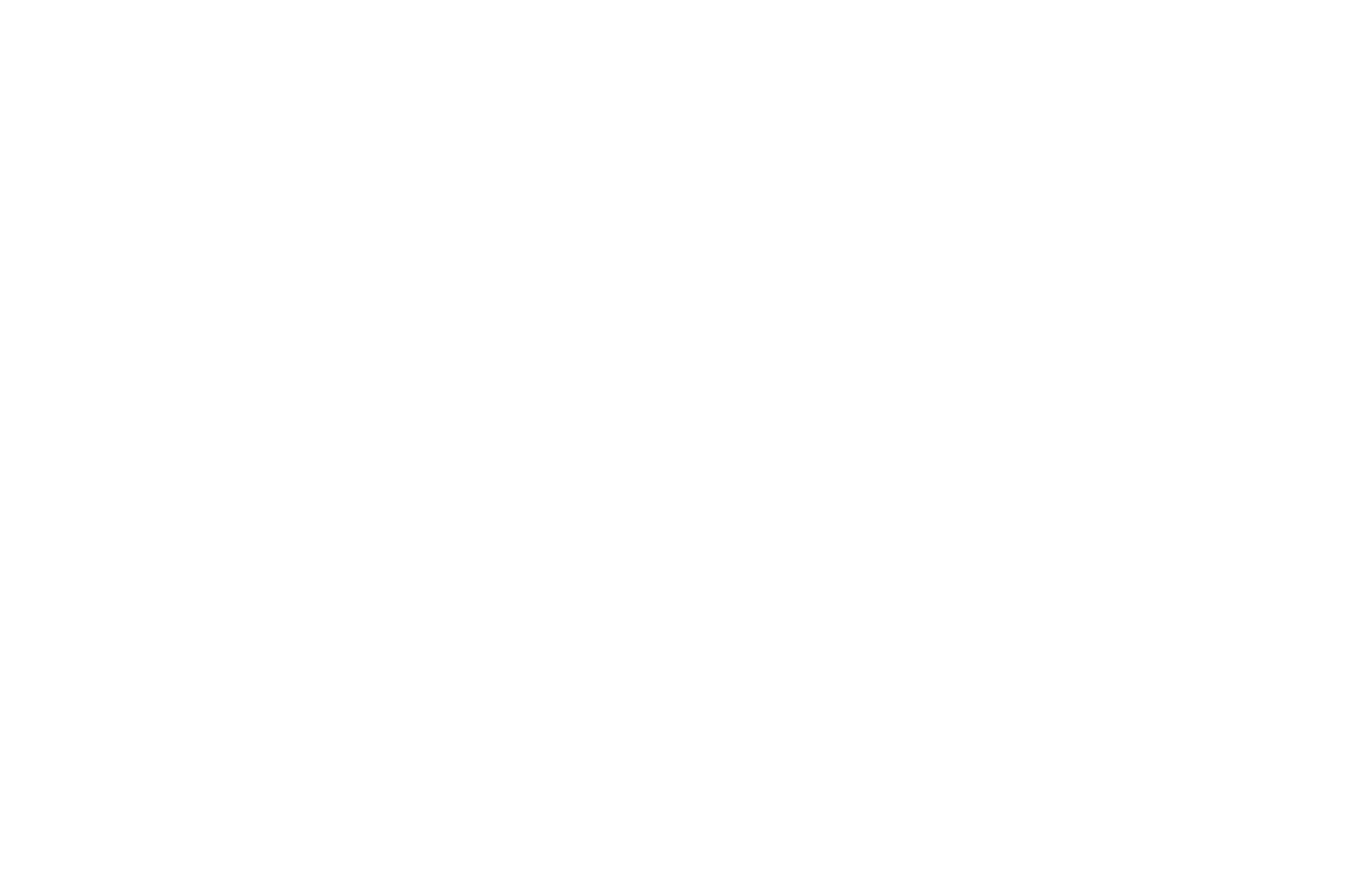
Сцена из спектакля «Легасов: надо жить».
После Легасова был спектакль о Сергее Ивановиче Мосине, создателе знаменитой мосинской винтовки. Если «Легасов» — это документальная драма по воспоминаниям и телевыступлениям, то «Мосин» — это романтическая история. Человек изобрел винтовку, чтобы выкупить жену. Это ведь безумно интересно!
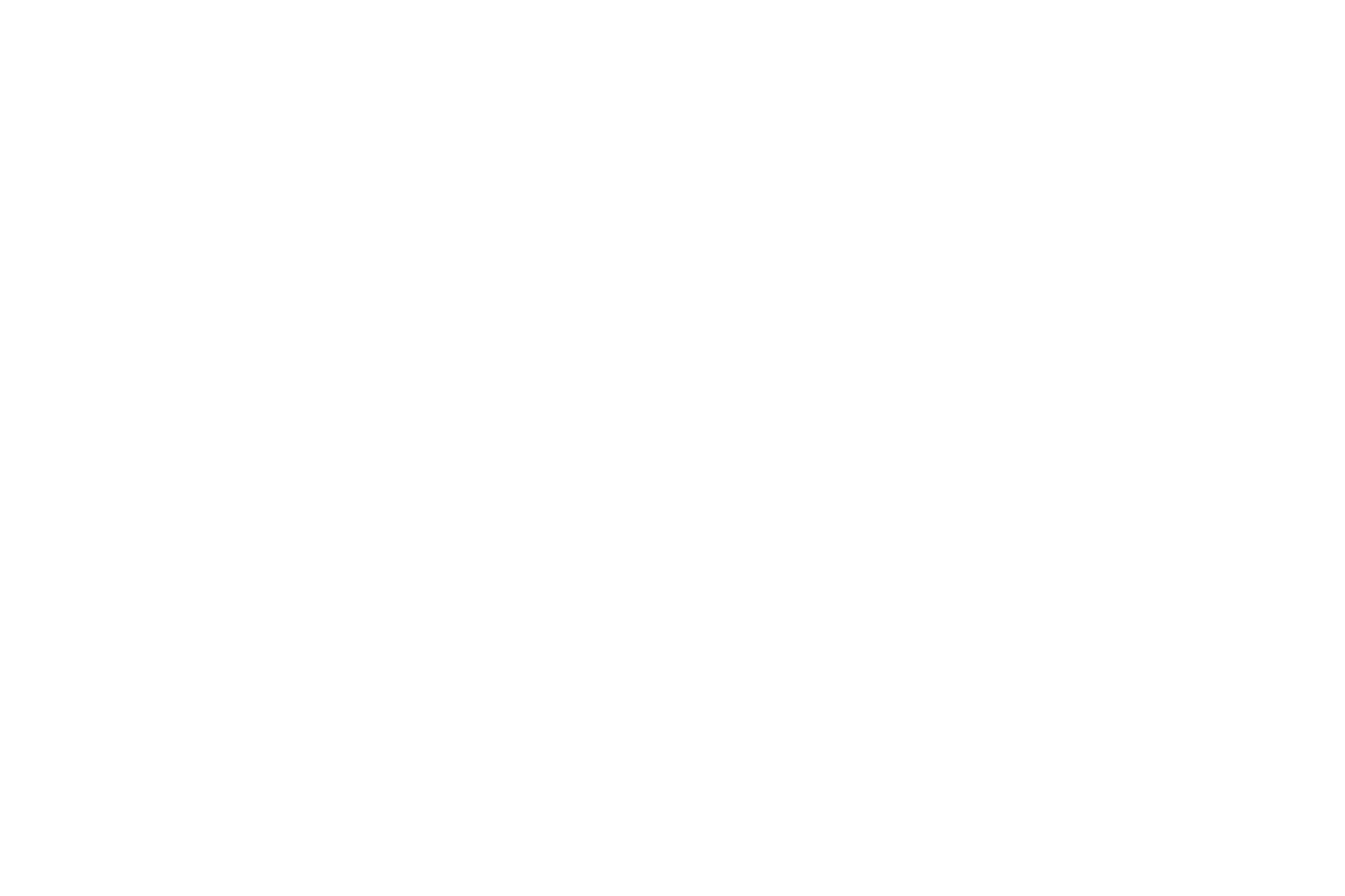
Сцена из спектакля «Мосин: трехлинейный роман».
Цикл «Жизнь замечательных туляков» продолжает существовать уже пятый сезон. На сегодня есть уже четыре спектакля по совершенно разным героям, включая ученого-энциклопедиста Андрея Тимофеевича Болотова и поэта и наставника Пушкина Василия Андреевича Жуковского.
В каком-то смысле, у нас получилась театральная героизация истории родного города. И она оказалась востребована.
В каком-то смысле, у нас получилась театральная героизация истории родного города. И она оказалась востребована.
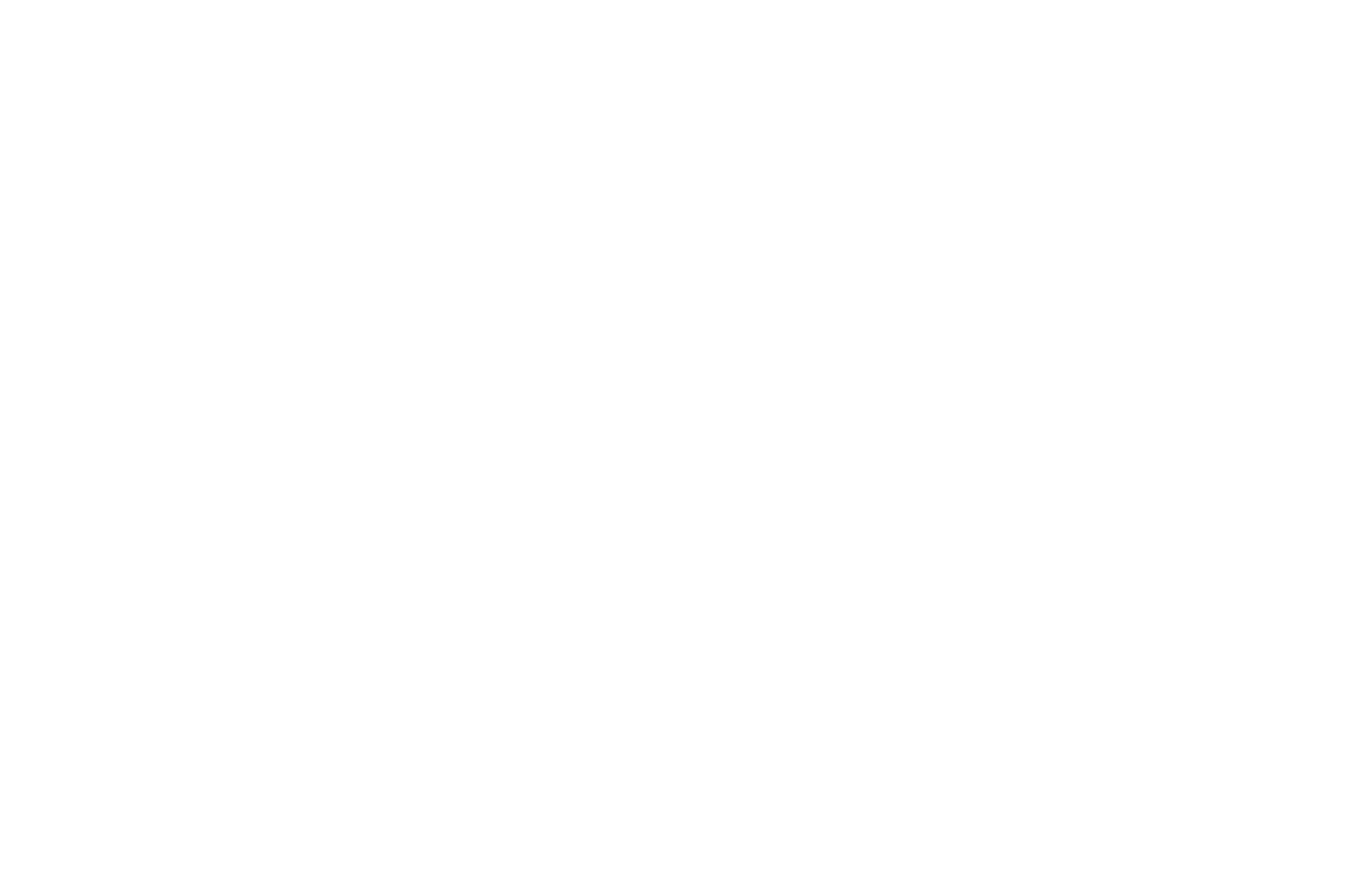
Сцена из спектакля «Болотов: жизнь как приключение».
Я рад, что после этих спектаклей люди выходят и говорят: «Надо же, а мы и не знали, что у нас в Туле такое происходило. Мы гордимся, что мы живем в Туле». На мой взгляд, с этого и начинается патриотизм.
О ТУЛЕ ГОРОДЕ-ГЕРОЕ
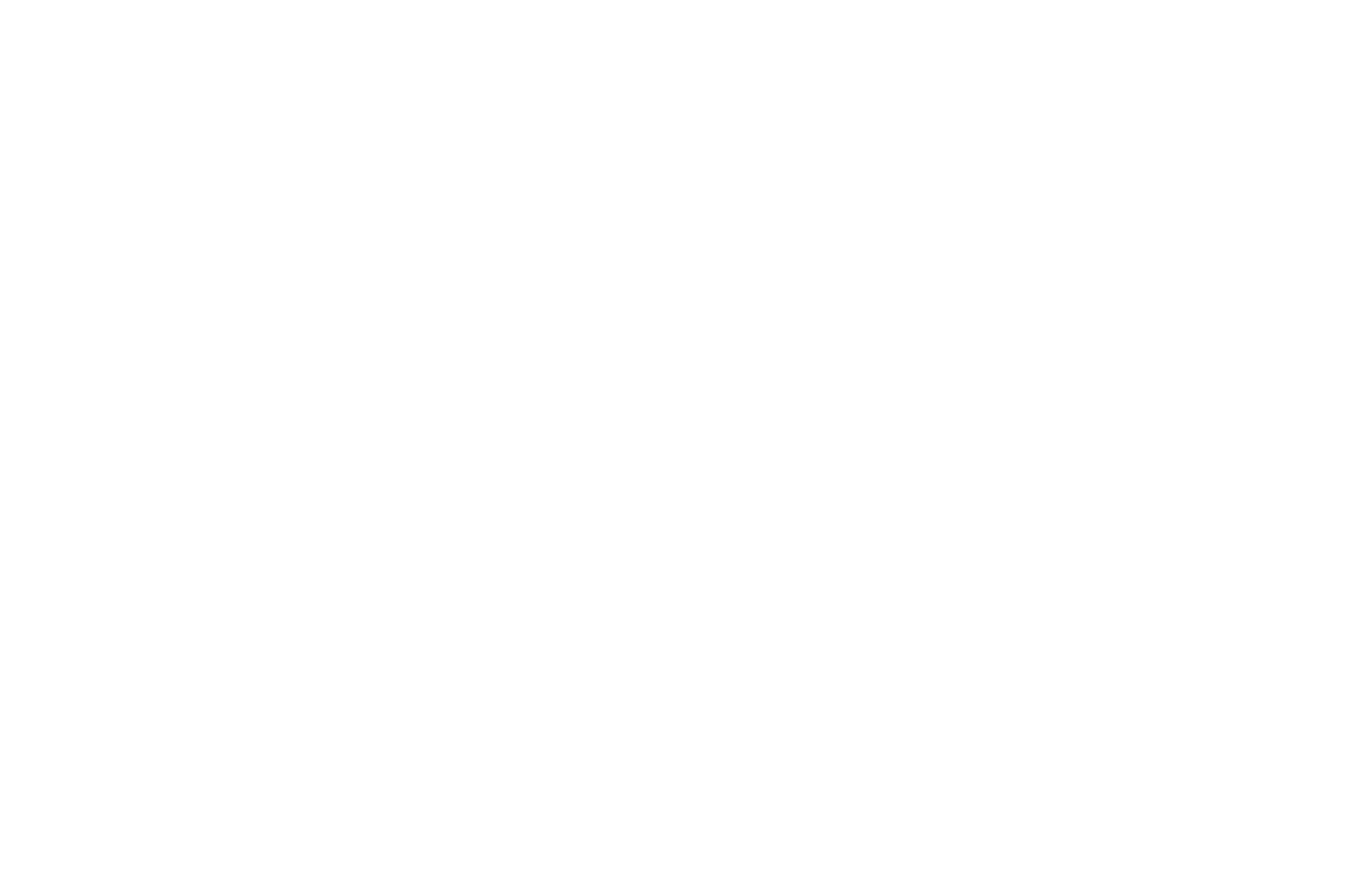
Недавно я закончил большую монументальную драму об обороне Тулы в 1941-м году. За те события Тула и была удостоена звания города Героя.
Когда немец шел на Москву, каких-то внятных частей Красной Армии, которые могли бы оказать сопротивление, на этом участке фронте не было. В городе оставался лишь полк НКВД, где было чуть больше 100 человек.
И тогда был собран Тульский рабочий полк: из обычных людей, поскольку основные рабочие уже были эвакуированы с заводами на Урал. В Туле, по сути, оставались только старики, подростки и женщины.
Вот эти люди и остановили танковую армию Гудериана, которая до этого прошла через всю Европу и половину Советского Союза.
Когда немец шел на Москву, каких-то внятных частей Красной Армии, которые могли бы оказать сопротивление, на этом участке фронте не было. В городе оставался лишь полк НКВД, где было чуть больше 100 человек.
И тогда был собран Тульский рабочий полк: из обычных людей, поскольку основные рабочие уже были эвакуированы с заводами на Урал. В Туле, по сути, оставались только старики, подростки и женщины.
Вот эти люди и остановили танковую армию Гудериана, которая до этого прошла через всю Европу и половину Советского Союза.
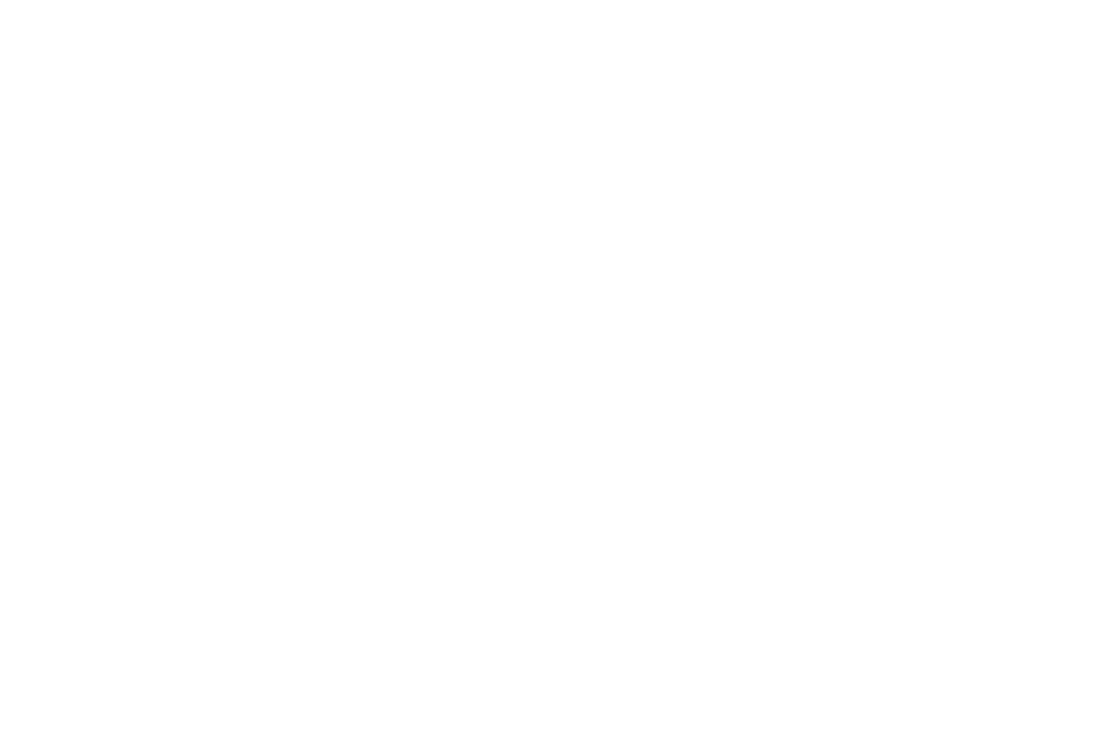
Тульский государственный музей оружия — один из старейших музеев России.
После этой истории месяца два пришлось приходить в себя. Это было большое напряжение, прежде всего, эмоциональное. Поэтому после я с огромным удовольствием написал инсценировку «Золотого ключика».
Неожиданный поворот…
Люблю театр кукол и много для него пишу. Это сложнее, чем для драмы, и это очень интересно.
Надо переключаться, нельзя все время писать что-то очень сложное и серьезное. У Чернышевского в «Что делать?» был такой герой Рахметов. Он говорил, что отдых — это смена занятий. Так вот я к этому тоже пришел.
Неожиданный поворот…
Люблю театр кукол и много для него пишу. Это сложнее, чем для драмы, и это очень интересно.
Надо переключаться, нельзя все время писать что-то очень сложное и серьезное. У Чернышевского в «Что делать?» был такой герой Рахметов. Он говорил, что отдых — это смена занятий. Так вот я к этому тоже пришел.
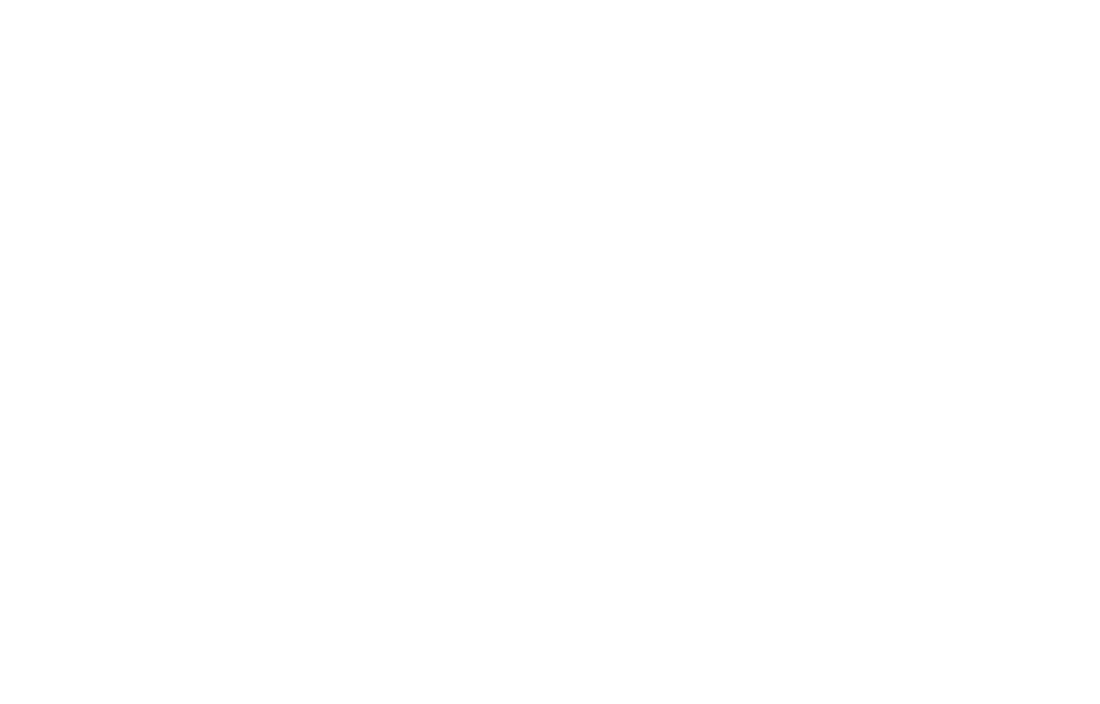
Тульский дворец детского и юношеского творчества. Раньше в этом здании находилась Городская Дума, а изначально особняк принадлежал промышленникам Платоновым.
О СЛОЖНОСТИ БОЛЬШИХ ТЕМ
Можно прикрыться большой темой. Но большая тема не спасает от непрофессионализма.
Большая тема, отчасти, и навредила советской драматургии. Когда заказными текстами к очередному юбилею революции, Ленина и партии народ отвратили от серьезных идей. Это было неверно. И на этих ошибках надо учиться.
Большая тема, отчасти, и навредила советской драматургии. Когда заказными текстами к очередному юбилею революции, Ленина и партии народ отвратили от серьезных идей. Это было неверно. И на этих ошибках надо учиться.
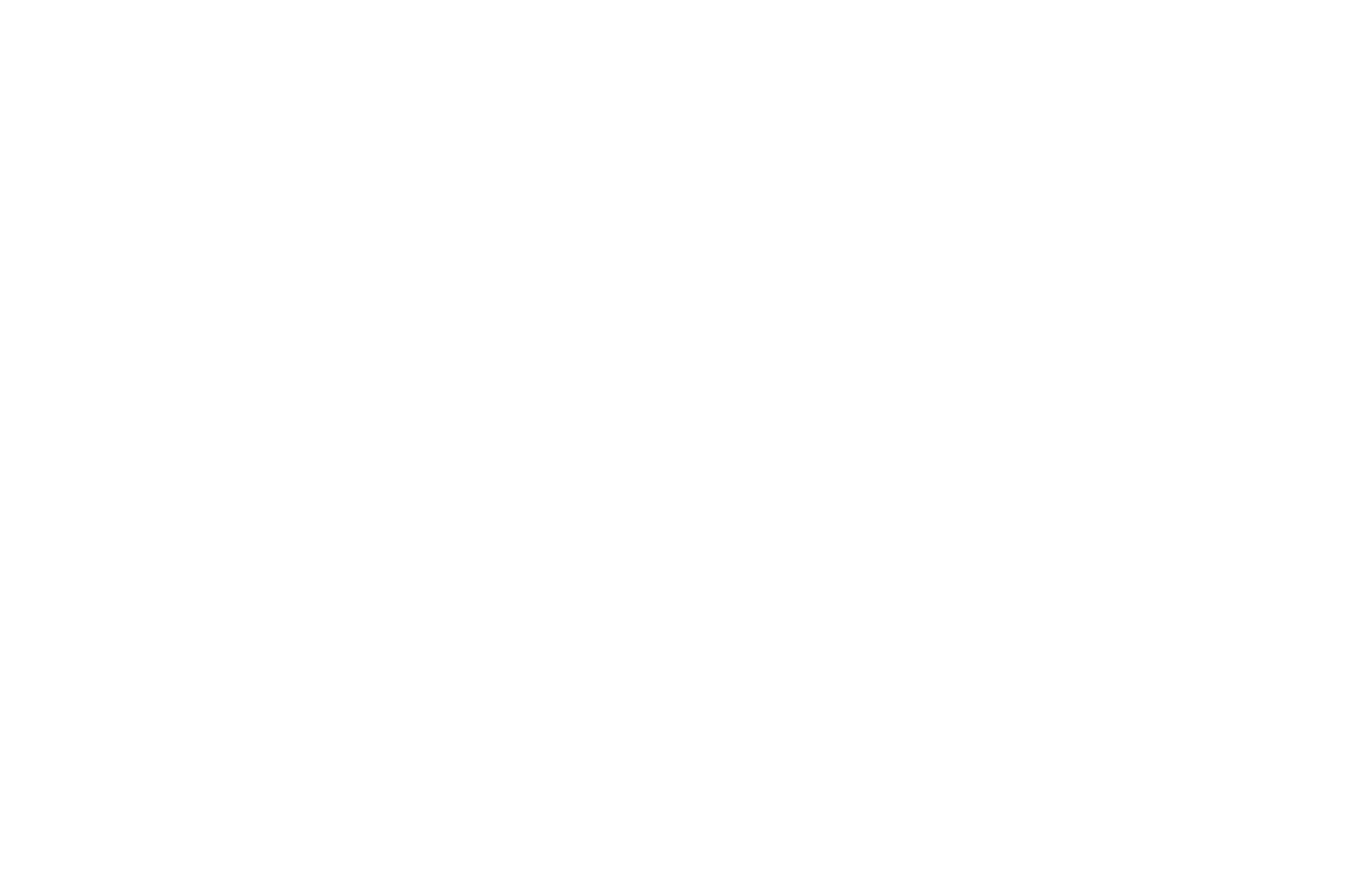
Тула с высоты птичьего полета.
Новая драма, на мой взгляд, наступила на те же советские грабли, хотя и отрицала советский подход. Раньше любая пьеса про Ленина обязана была считаться хорошей, и неважно, что она была плохо написана. В новой драме все свелось к тому, что пьеса классная, если она про маргиналов. И никого не волновало, как это все написано.
Есть, над чем работать?
Конечно. Большие проблемы остаются с Союзом Писателей России, в котором только сейчас пытаются воссоздать секцию драматургии. В Советском Союзе драматурги были членами Союза Писателей и были включены в систему госзаказов. Членство в Союзе Писателей фактически было местом работы. Писатели получали заказ на ту или иную тему и выполняли его с разной степенью таланта. Лучшее из написанного потом пропагандировалось.
Потом эта система госзаказа была разрушена, хотя она существовала и до, и помимо Советского Союза. Почти вся мировая драма написана на заказ. Это нормальная практика. Если автор профессионален, он и заказ сумеет написать так, что будет рыдать вся страна.
Как пример, буквально недавно я наткнулся на советский фильм «Премия» по одноименной пьесе Александра Гельмана. Так вот я был потрясен тем, насколько это хорошо сделано. Понятно, что заказная история, понятно, что отвечает политическим требованиям. Но, по большому счету, это же история про то, что человек должен быть честен с самим собой. А уже параллельно автор решает какие-то социальные задачи.
Есть, над чем работать?
Конечно. Большие проблемы остаются с Союзом Писателей России, в котором только сейчас пытаются воссоздать секцию драматургии. В Советском Союзе драматурги были членами Союза Писателей и были включены в систему госзаказов. Членство в Союзе Писателей фактически было местом работы. Писатели получали заказ на ту или иную тему и выполняли его с разной степенью таланта. Лучшее из написанного потом пропагандировалось.
Потом эта система госзаказа была разрушена, хотя она существовала и до, и помимо Советского Союза. Почти вся мировая драма написана на заказ. Это нормальная практика. Если автор профессионален, он и заказ сумеет написать так, что будет рыдать вся страна.
Как пример, буквально недавно я наткнулся на советский фильм «Премия» по одноименной пьесе Александра Гельмана. Так вот я был потрясен тем, насколько это хорошо сделано. Понятно, что заказная история, понятно, что отвечает политическим требованиям. Но, по большому счету, это же история про то, что человек должен быть честен с самим собой. А уже параллельно автор решает какие-то социальные задачи.
Зачем вообще сегодня взрослому человеку идти в театр, если есть онлайн-кинотеатры и стриминговые платформы?
Театр и энергетику, которая идет от актеров со сцены, нельзя ничем заменить. Кино — это прекрасно, но театр — это самостоятельная история.
Сколько раз уже хоронили театр, но пока так и не придумали, чем его заменить. Потому что это живые эмоции. Это чувство сопричастности к происходящему на сцене. Это чужой опыт, чужая жизнь, которую ты получаешь возможности прожить.
Коллективная реакция на увиденное всегда ярче, чем реакция индивидуальная.
Театр и энергетику, которая идет от актеров со сцены, нельзя ничем заменить. Кино — это прекрасно, но театр — это самостоятельная история.
Сколько раз уже хоронили театр, но пока так и не придумали, чем его заменить. Потому что это живые эмоции. Это чувство сопричастности к происходящему на сцене. Это чужой опыт, чужая жизнь, которую ты получаешь возможности прожить.
Коллективная реакция на увиденное всегда ярче, чем реакция индивидуальная.
О ФЕСТИВАЛЕ «АВАНПОСТ»
Сейчас у людей действительно повышенный интерес к теме СВО в театре, а самих спектаклей по-прежнему не так много. Того же «Аксолотля» мы дважды показывали в театре Российской Армии в Москве.
Первый раз это было осенью 2024 года, на большой сцене. Собрался огромный зал, и мы совершенно не ожидали подобного интереса. Второй раз это было в рамках фестиваля «Аванпост», и тоже нас приняли хорошо.
Первый раз это было осенью 2024 года, на большой сцене. Собрался огромный зал, и мы совершенно не ожидали подобного интереса. Второй раз это было в рамках фестиваля «Аванпост», и тоже нас приняли хорошо.
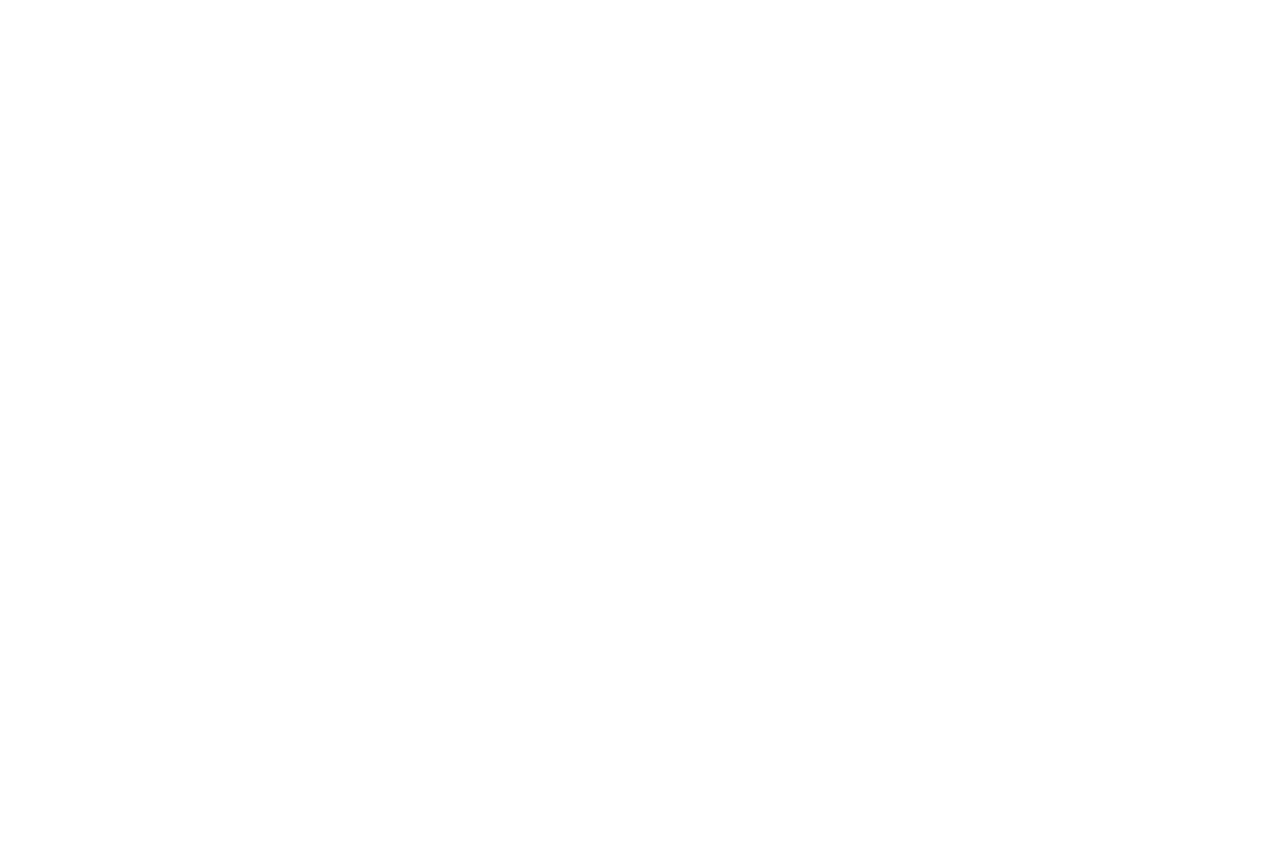
С коллегами по Тульскому академическому театру драмы имени Горького.
Отмечу, что в конкурсном цикле 2023-2024 национальной театральной премии «Золотая Маска» спектакль «Свадебное платье для аксолотля» прошел предварительный отбор и получил статус «Соискатель».
Для того, чтобы писали на эту тему, чтобы она отзывалась, ее надо поддерживать. Поэтому очень хорошо, что появился такой фестиваль как «Аванпост». Хорошо, что появляется более-менее объемная картина того, что происходит в стране в направлении патриотического и военного театра. Надеюсь, это начинание будет развиваться.
Для того, чтобы писали на эту тему, чтобы она отзывалась, ее надо поддерживать. Поэтому очень хорошо, что появился такой фестиваль как «Аванпост». Хорошо, что появляется более-менее объемная картина того, что происходит в стране в направлении патриотического и военного театра. Надеюсь, это начинание будет развиваться.
P.S. Пока готовился этот материал, стало известно, что пьеса Рагима Мусаева «Пряники» для Гитлера» вошла в длинный список международного конкурса историко-патриотических пьес «С любовью к Отчизне».
Поздравления автору. Времена действительно меняются.
Поздравления автору. Времена действительно меняются.
Рагим Мусаев
драматург, юрист, подполковник юстиции
По пьесам Рагима Мусаева поставлено более 100 спектаклей в профессиональных и любительских театрах России, Беларуси, Казахстана, ЛНР, ДНР.
В материале использованы фотографии из личного архива Рагима Мусаева, Тульского драматического театра, снимки Gelio | Slava Stepanov и снимки из сети интернет.